
Почему нации восходят и приходят в упадок: обзор
Введение
Это эссе представляет собой пятую версию размышлений, которые я впервые попытался изложить более двадцати лет назад, после прочтения книги Дэвида Лэндса «Богатство и бедность народов» в 1999 году. Эта книга произвела на меня неизгладимое впечатление — не только благодаря своему охвату и глубине, но и потому, что заставила меня глубоко задуматься о скрытых силах, определяющих судьбу цивилизаций.
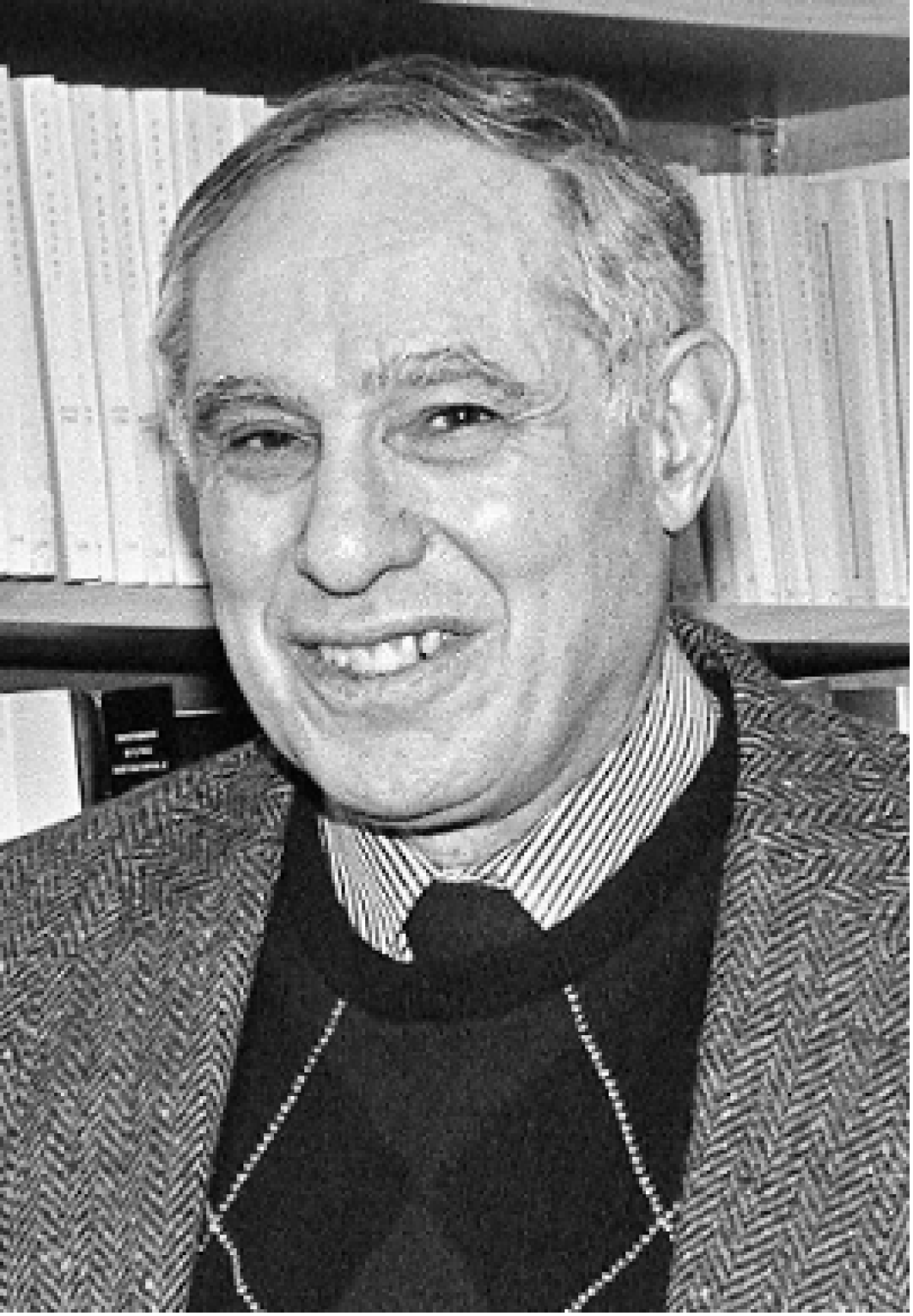
С тех пор я продолжаю возвращаться к вопросу о том, почему происходят взлеты и падения наций, опираясь на работы экономистов, историков и культурных критиков, чьи идеи помогли пролить свет на эту проблему. В этой недавно переработанной версии я объединил темы, которые занимали меня на протяжении многих лет. Она не претендует на завершенность, а скорее является размышлением — попыткой выделить то, что, по моему мнению, имеет наибольшее значение для выживания или распада обществ. Для тех, кто разделяет мой интерес к этой теме, в конце статьи я привел список источников, которые могут послужить ориентиром для дальнейшего изучения. Надеюсь, что то, что следует ниже, будет достойным внимания и размышлений читателя.
Почему нации поднимаются и падают: обзор
В основе своей, история — это летопись взлетов и падений цивилизаций. Ассирийцы и вавилоняне когда-то правили обширными территориями древнего мира, а затем исчезли из памяти. Греки заложили интеллектуальные основы Запада, но впоследствии распались и попали под власть Рима. Сам Рим, величайшая империя древности, в конечном итоге также развалился под тяжестью собственных противоречий. Спустя столетия Испания поднялась благодаря богатству завоеваний и серебру, но в итоге погрязла в долгах и пришла в упадок. Великобритания, некоторое время бывшая доминирующей мировой державой, утратила свою империю в течение одного поколения. Османская империя, Габсбурги, Советский Союз — каждая из этих держав имела свой звездный час, но в конечном итоге каждая канула в прошлое.
Причины их подъемов и падений могут быть разными — военные завоевания, технологическое превосходство, институциональный упадок, внешние вторжения, моральное истощение — но закономерность очевидна. История усеяна руинами некогда могущественных держав. Это повторяющееся явление давно интригует не только историков, но и философов, теологов, экономистов и государственных деятелей. Это не просто вопрос любопытства, а вопрос, имеющий непреходящее значение. Что приводит общество к процветанию? Что ведет его к гибели?
От Ибн Хальдуна[1] в XIV веке, который писал о циклах династий и упадке групповой солидарности (асабия), до Эдварда Гиббона и его монументального труда «Упадок и гибель Римской империи», в котором он проследил распад Рима до моральной и институциональной слабости, этот вопрос вдохновлял поколения ученых. В более позднее время Арнольд Тойнби[2]предположил, что цивилизации возникают в ответ на вызовы и падают из-за внутренних провалов. Пол Кеннеди в книге «Взлет и падение великих держав» подчеркнул роль экономической мощи и стратегической экспансии. Дэвид Лэндс, Джаред Даймонд, Дарон Аджемоглу и другие добавили к этой мозаике мысли культурные, географические и институциональные аспекты, через которые можно понять судьбу цивилизаций.
Постоянство этого вопроса свидетельствует о том, что он не является чисто академическим. За ним скрывается более глубокий человеческий импульс: стремление к постоянству в мире, подверженном изменениям, и надежда на то, что, изучая прошлое, мы сможем защитить будущее. Вопрос о том, почему происходят взлеты и падения наций, означает также вопрос о том, что поддерживает порядок, что подрывает его и является ли упадок неизбежным или его можно предотвратить. Это эссе родилось именно из этих размышлений.
Искушение простыми ответами
Столкнувшись с взлетами и падениями наций, хочется искать простые, материальные объяснения. Многие указывают на природные ресурсы, плодородную почву, судоходные реки или доступ к морским путям как на решающие преимущества. Другие подчеркивают технологическое превосходство или военную мощь. Эти факторы не являются тривиальными, но они также не являются достаточными. Прошлое в своём грандиозном размахе рисует куда более сложную картину.
Например, географический детерминизм долгое время был очень популярен. Джаред Даймонд в своей книге Guns, Germs, and Steel («Ружья, микробы и сталь») объясняет успех Евразии во многом благоприятным географическим положением, в том числе расположением континента с востока на запад, что способствовало распространению сельскохозяйственных культур, животных и инноваций. В этом есть доля правды. Однако география не может объяснить все. Как признает сам Даймонд,
«История развивалась по-разному для разных народов из-за различий в их окружающей среде, а не из-за биологических различий между самими народами» (Даймонд, 25).
Тем не менее, география сама по себе не может объяснить, почему две страны с похожими условиями развиваются так по-разному. Например, Северная и Южная Корея находятся на одном полуострове, говорят на одном языке и имеют общую историю до 1945 года, но разделились на две совершенно разные траектории развития в зависимости от своих идеологических выборов. То же самое можно сказать о Гане и Сингапуре, которые в конце 1950-х годов вышли из-под британского колониального господства с сопоставимым уровнем доходов. Сегодня Сингапур — глобальный финансовый центр, а Гана по-прежнему борется со структурной бедностью и политической нестабильностью. Разница заключается не в широте географического положения, а в лидерстве, управлении и культуре.
Природные ресурсы часто рассматриваются как путь к богатству, но зачастую они являются скорее проклятием, чем благом. Серебряные рудники Потоси обогатили Испанскую империю в XVI веке, но не смогли обеспечить ей устойчивое промышленное развитие. Напротив, они привели к инфляции, зависимости и имперской экспансии. Ассирийская империя, богатая железом и сельскохозяйственными угодьями, рухнула из-за внутренних восстаний и внешних вторжений, как только ее институциональный контроль ослаб. В наше время Венесуэла, обладающая огромными запасами нефти и другими природными ресурсами, страдает от экономического упадка и социального коллапса, в то время как бедная ресурсами Япония с дисциплинированными институтами и культурой инноваций построила мощную экономику.
Военные завоевания — еще один обманчивый показатель успеха. Римская империя достигла беспрецедентного территориального размаха, но, как утверждал Гиббон, ее внутренний упадок в области гражданской добродетели, институциональной сплоченности и административной компетентности подготовил почву для ее распада. Монгольская империя, пожалуй, самая большая в истории империя, занимавшая непрерывную территорию, исчезла за одно поколение по схожим причинам: она завоевала, но не сумела сохранить единство.
Технологическое превосходство также не гарантирует устойчивого доминирования. В период своего расцвета халифат Аббасидов превосходил Европу в области науки, математики и литературы. Однако без институционального обновления и способности к адаптации его прогресс застопорился. Инновации, если они не подкрепляются культурными ценностями, поощряющими поиск и терпимость к инакомыслию, имеют тенденцию к угасанию.
Экономист Уильям Истерли лаконично выразил эту мысль: «Бедные страны бедны не из-за тропического климата, а из-за неэффективных институтов. География не является предопределением» (Истерли, 254). Дэвид Лэндс повторяет эту мысль: «Само по себе наличие богатств не делает общество богатым. Оно может даже препятствовать усилиям, создавая иллюзию богатства без труда» (Лэндс, 516).
Даже Фернан Бродель, хорошо знакомый с длительными историческими периодами, предостерегал от географического фатализма. «География не является объяснением, — писал он. — Она является приглашением». Более глубокие причины национального процветания или упадка лежат в других сферах — в том, как организованы общества, как они передают ценности, в качестве их законов и в характере их граждан.
Материалистические объяснения могут соблазнять своей простотой, но они заставляют нас кружить на поверхности. Истинные причины лежат глубже.
Лэндс и культурное ядро
Если материальные факторы не могут в одиночку объяснить судьбу наций, то что же может? В книге «Богатство и бедность народов» историк Дэвид Лэндс[3] дает поразительный ответ: решающие факторы заключаются не в том, что имеет общество, а в том, что оно собой представляет. «В погоне за богатством, — пишет Лэндс, — неудача или успех в конечном счете определяются изнутри, а не навязываются извне» (Лэндс, 523). То есть культура — в широком смысле этого слова, как совокупность ценностей, привычек, убеждений и институциональных ожиданий общества — определяет его способность процветать или приходить в упадок.
Лэндс выделяет восемь взаимосвязанных черт, которые он считает решающими для успеха цивилизации. Ни одна из них не является достаточной сама по себе, и все они требуют исторических усилий для развития и поддержания. Рассмотрим каждую из них по очереди, сопровождая их иллюстративными примерами из истории.
1. Чувство национального единства
Национальное единство — это не просто сентиментальность или размахивание флагами. Это способность различных групп внутри государства подчинить узкие интересы общей гражданской идентичности.
«Национальное единство, чувство принадлежности и ответственности друг за друга необходимы для построения и поддержания экономических усилий».
(Лэндс, 524).
Когда его нет, даже самые лучшие законы подрываются фракционностью. Возьмем, к примеру, ранние Соединенные Штаты: новая нация, сшитая из разрозненных колоний, которая достигла сплоченности благодаря общей конституционной основе и культуре республиканских добродетелей. Напротив, Габсбургская империя — многонациональная и многоэтническая — распалась в XIX и начале XX веков, не сумев обеспечить единство своих составных частей.
2. Конкурентоспособность
Конкуренция предполагает не только амбиции, но и способность к адаптации. Успешные общества культивируют дух стремления, экспериментирования и устойчивости. Ярким примером этого является Япония после периода Мэйдзи (после 1868 года). Столкнувшись с промышленной мощью Запада, Япония за несколько десятилетий быстро реформировала свои институты, переняла западные технологии и построила производственную базу мирового уровня. В отличие от этого, Китай династии Цин, несмотря на свои размеры и ресурсы, сопротивлялся реформам и отставал, в конечном итоге попав под иностранное господство.
3. Уважение к эмпирическим и техническим знаниям и стремление к их передаче
Процветающие общества ценят практическое обучение. Они воспитывают инженеров, мастеров и специалистов, способных решать проблемы, а не только теоретиков и бюрократов.
«Научное любопытство и техническая изобретательность необходимы, но они становятся продуктивными только в сочетании с культурой, которая ценит практические знания и передает их».
(Лэндс 516)
Эта черта объясняет часть европейского расхождения во время промышленной революции. Британские институты, такие как Королевское общество, способствовали развитию эмпирических исследований и их распространению в промышленности. Между тем, в Османской империи печатные станки на протяжении веков подвергались преследованиям по религиозным мотивам, что задержало распространение знаний.
4. Преимущество продвижения по заслугам или компетентности
Меритократия, хотя и не реализована нигде в совершенстве, имеет решающее значение для долгосрочного благополучия страны. Когда статус зависит от таланта и усилий, а не от происхождения или покровительства, общество раскрывает весь потенциал своих граждан.
«Общества, которые ценили результаты больше, чем привилегии, а достижения больше, чем происхождение, были более склонны к инновациям и росту».
(Лэндс 515)
Прусская государственная служба в XIX веке стала образцом бюрократической эффективности благодаря набору сотрудников на основе экзаменов и профессиональных навыков. Сравните это с современным Ливаном (среди прочих стран), где сектантские квоты и сети покровительства опустошили государственную администрацию, несмотря на значительный человеческий капитал страны.
5. Граждане, способные не только приобретать, но и использовать богатство
Богатство, утверждает Лэндс, нужно не только приобретать — его нужно продуктивно использовать. Для этого необходимы финансовая грамотность, этические нормы и долгосрочное видение.
«Богатство необходимо сначала создать, а уже потом можно его потреблять, и общества, которые научатся инвестировать и экономить, будут выживать».
(Лэндс, перефразировано стр. 517).
В Швейцарии культура бережливости, сбережений и децентрализованного предпринимательства превратила горную, бедную ресурсами страну в процветающее и стабильное общество. Между тем, богатая нефтью Нигерия растратила огромные богатства на коррупцию и потребление, практически не инвестируя в долгосрочный капитал.
6. Всеобщее уважение честности
Доверие — это смазка экономической и гражданской жизни. В обществах с низким уровнем доверия каждая сделка должна охраняться, контролироваться и выполняться, что требует больших затрат.
«Доверие, честность и верховенство закона снижают транзакционные издержки, стимулируют обмен и способствуют инвестициям».
(Лэндс 516)
Страны Северной Европы неизменно входят в число наименее коррумпированных стран, где государственные учреждения пользуются широким доверием. Это доверие обеспечивает беспрепятственную торговлю, эффективное управление и инновации. В отличие от этого, во многих частях развивающегося мира системная коррупция подрывает как внутренние, так и иностранные инвестиции и усиливает цинизм.
7. Государственные учреждения, обеспечивающие защиту собственности и поощряющие предпринимательство
Гарантия прав собственности и верховенство закона являются необходимыми условиями для устойчивого развития предпринимательства. Без них инвестиции сокращаются, а будущее становится неопределенным.
«Прежде всего, для экономического роста необходимы гарантированные права собственности, честное правительство и атмосфера справедливости и порядка».
(Лэндс 523)
Это понимание объединяет таких разных мыслителей, как Вильгельм Рёпке и Эрнандо де Сото. Рёпке писал: «Только когда защищены права собственности, появляется место для личной независимости и ответственности» (Рёпке, 85). Де Сото показал, как миллиарды людей остаются в стороне от процветания, потому что не имеют формальных прав на землю или капитал. Такие страны, как Чили и Эстония, благодаря институциональным реформам улучшили права собственности и достигли быстрого развития. Другие, такие как Зимбабве, пережили экономический коллапс после того, как конфискация собственности разрушила доверие и капитал.
8. Дисциплина, позволяющая отказаться от текущего потребления ради будущей выгоды
Последний признак — возможно, самый хрупкий — это культурная способность откладывать удовлетворение. Общества, которые сберегают, инвестируют и планируют, могут строить; те, которые требуют немедленного вознаграждения, часто разрушают свое будущее.
«Дисциплина, позволяющая сберегать и инвестировать, а не тратить все, откладывать удовлетворение на потом, необходима для долгосрочного развития».
(Лэндс 518)
Послевоенное восстановление Германии частично основывалось на глубоком культурном стремлении к бережливости, образованию и постепенному прогрессу — так называемом Wirtschaftswunder (с нем. "немецкое экономическое чудо") Аргентина, напротив, когда-то входившая в число самых богатых стран мира, пережила столетие упадка, отмеченное популизмом, долговыми циклами и краткосрочной политикой.
Очевидно, что все эти черты в совокупности не возникают спонтанно. Они являются результатом долгой исторической борьбы, культурных усилий и совершенствования институтов. Они также хрупки и легко подвергаются эрозии, если их игнорировать или высмеивать. Как утверждает Лэндс, «если мы что-то и можем извлечь из истории экономического развития, так это то, что культура имеет решающее значение» (Лэндс, 516).
Далее давайте рассмотрим, как эти культурные основы пересекаются с институциональными структурами, усиливая или ослабляя их, как подчеркивают другие видные мыслители.
Другие мнения
Дэвид Лэндс не единственный, кто выделяет культурные корни процветания, но он является частью более широкого хора, в который входят экономисты, историки, политические теоретики и социологи, многие из которых подчеркивают жизненно важную роль институтов, права и свободы в определении судьбы наций.
В книге «Why Nations Fail» («Почему нации приходят в упадок») Дарон Аджемоглу и Джеймс А. Робинсон выдвигают убедительную институциональную теорию: страны процветают, когда в них развиваются инклюзивные институты, которые защищают права собственности, обеспечивают исполнение договоров, поощряют инвестиции и предоставляют равные возможности. Напротив, экстрактивные институты — те, которые концентрируют власть и богатство в руках немногих — сеют стагнацию.
«Такие страны, как Северная Корея, бедны потому, что те, кто обладает властью, принимают решения, которые приводят к бедности. Они поступают неправильно не по ошибке или из-за невежества, а намеренно».
(Аджемоглу и Робинсон, 68)
Это перекликается, в современных терминах, с идеями Дугласа Норта, который подчеркивал, что институты формируют экономические показатели, структурируя стимулы. Норт утверждал, что долгосрочное развитие зависит от создания институтов, которые согласовывают частную выгоду с общественным благом. Гарантированные права собственности, беспристрастное исполнение договоров и ограничение произвольной власти — это не роскошь, а жизненная необходимость.
Стоит отметить, что верховенство закона было особенно устойчивым двигателем процветания. Юрист Гарольд Берман в книге «Закон и революция» отметил, что превращение Западной Европы в динамичную цивилизацию совпало с появлением автономных правовых систем, независимых как от церкви, так и от короны. Эти системы обеспечивали предсказуемость, возможность обращения к правосудию и подотчетность — условия, при которых могло процветать предпринимательство.
Частная собственность также является не просто техническим активом, но и культурным институтом. Как утверждал Фридрих Хайек, «система частной собственности является важнейшей гарантией свободы не только для тех, кто владеет собственностью, но и в не меньшей степени для тех, кто ею не владеет» (Хайек, 107). Права собственности создают не только экономические стимулы, но и социальную стабильность: люди, имеющие гарантированное право собственности, более склонны к планированию, бережливости и инвестированию.
Рёпке, один из архитекторов послевоенной экономической реформы Германии, ставил частную собственность и децентрализацию в центр своей «гуманной экономики». Он предупреждал, что когда государство становится единственным поставщиком и планировщиком, моральная и гражданская структура общества разрушается. По его словам, «там, где все централизовано, жизнь становится нечеловеческой и опасной» (Рёпке, 145). Его коллега Александр Рюстов ввел термин «Vitalpolitik» — политика жизнеспособности, — цель которой заключалась в укоренении экономической свободы в культурном здоровье и моральной ответственности.
В более широком смысле свобода издавна считается необходимым условием для творческого расцвета. Алексис де Токвиль предупреждал, что демократии могут невольно скатиться к «мягкому деспотизму» — бюрократическому патернализму, который под видом безопасности душит инициативу. Токвиль опасался не тирании, основанной на силе, а пассивности граждан, готовых променять ответственность за свою жизнь на комфорт. «То угнетение, которое грозит демократическим народам, не будет похоже ни на что из того, что было в мире до сих пор», — писал он (Демократия в Америке, т. II, ч. IV, гл. 6).
Австрийская школа экономики — Людвиг фон Мизес, Фридрих Хайек, а позже Ганс-Герман Хоппе — развили эту идею дальше. Мизес утверждал, что рациональный экономический расчет требует свободных рыночных цен, которые, в свою очередь, требуют добровольного обмена и обеспечения права собственности. Хайек добавил, что знания децентрализованы и неявны, что делает централизованное планирование не только неэффективным, но и эпистемологически невозможным. Хоппе, опираясь на более радикальную либертарианскую традицию, настаивал на том, что без абсолютного уважения частной собственности цивилизация сама по себе рушится в результате конфликтов.
Таким образом, децентрализация становится одной из ключевых тем. Децентрализованные системы, будь то политические, правовые или экономические, способствуют накоплению местных знаний, повышению устойчивости и конкуренции. Швейцарская Конфедерация с ее кантональной автономией и собраниями граждан уже давно демонстрирует преимущества субсидиарности. Ганзейский союз, децентрализованная сеть торговых городов средневековой Европы, процветал без центральной власти, поскольку его институты были адаптивными, добровольными и регулировались коммерческими нормами.
Даже такие мыслители, как Эрнандо де Сото, работающие в развивающихся странах, утверждают, что юридическое признание неформальной собственности имеет решающее значение для высвобождения капитала. В книге "The Mystery of Capital" («Тайна капитала») де Сото показывает, что миллиарды людей владеют активами, но без официального права собственности они не могут преобразовать эти активы в производительный капитал. То, что кажется бюрократической проблемой, на самом деле является проблемой цивилизации.
Таким образом, на протяжении веков и в различных дисциплинах повторяется один и тот же урок: свобода в рамках закона, основанная на праве собственности, поддерживаемая независимыми институтами и руководствующаяся моральными нормами, является почвой, на которой растет процветание.
Эти аргументы скорее подтверждают, чем опровергают тезис Лэндса. География может определять исходные условия игры. Культура может формировать характер игроков. Но именно институты — правила, судьи и дух соревнования — в конечном счете определяют, будет ли общество прогрессировать или деградировать.
Мы забываем формулу?
Если Лэндс прав — и если процветание проистекает из глубоких культурных и институциональных черт — то нам, жителям современного Запада, придется столкнуться с очень неудобными вопросами. Ведь то, что он назвал основами успеха — дисциплина, честность, меритократия, уважение к собственности, гражданская сплоченность — не просто игнорируются. Они активно разрушаются.
Эти признаки трудно не заметить. Меритократия была принесена в жертву на алтаре «равенства», «инклюзивности» и «социальной справедливости», идеологических квот. Наука и образование были политизированы, что привело к подрыву доверия к экспертному мнению. Государственный и частный долги выросли до уровня, который когда-то был немыслим, и стали постоянным атрибутом политики, причем без намерения их погасить и без какого-либо достоверного плана по изменению курса. Нечестность в общественной жизни больше не шокирует, она считается нормой и является ожидаемой. Долгосрочное мышление вытеснено культурой зрелищ, отвлечения внимания и краткосрочной выгоды. Мы израсходовали капитал — моральный, финансовый и культурный — накопленный предыдущими поколениями, при этом поздравляя себя с достигнутым прогрессом.
Это не просто упадок. Это то, что Лэндс назвал бы цивилизационной амнезией.
Культурная сплоченность и ее распад
Лэндс подчеркивал важность национального единства как жизненно важной черты. Однако сегодня западный мир, особенно Соединенные Штаты, в большей степени характеризуется разобщенностью, чем единством. Политика идентичности противопоставляет группы друг другу в игре с нулевой суммой, в то время как общие символы, нарративы и гражданские ритуалы подвергаются эрозии. Миграция без интеграции разрывает социальные узы. «Мягкий деспотизм» Токвиля больше не является предупреждением, а скорее документальным фактом, а идея общей цели вызывает подозрение или насмешки.
Ротбард предупреждал о таком исходе. В своей критике государственной власти он отмечал, что когда государство становится одновременно арбитром идентичности и поставщиком благ, оно поощряет межгрупповую борьбу:
«Чем больше государство забирает, тем больше различные группы должны захватить все, что могут, пока добыча не иссякла».
(Ротбард, Власть и рынок, 175).
По мнению многих, культурная фрагментация не является случайной — она носит системный характер.
Денежная деградация и утрата ориентации на будущее
Пожалуй, ничто так не иллюстрирует эрозию восьмой черты Лэндса — дисциплину отказываться от настоящего потребления ради будущего — как денежно-кредитная политика Запада. Когда-то основанная на золотом стандарте и фискальной осторожности, современная денежно-кредитная политика превратилась в упражнение в отрицании. Долги растут, процентные ставки искажаются, а сама идея здоровых денег высмеивается как анахронизм.
Ротбард, как и Мизес и Хайек до него, считал это не технической ошибкой, а моральной. Он писал:
«Инфляция — это скрытый налог и форма легализованного фальшивомонетничества».
(Ротбард, Что правительство сделало с нашими деньгами? 39).
Это наказывает вкладчиков, поощряет спекуляции и подрывает доверие. Лэндс согласился бы с этим: общество, которое не может сдерживать себя в финансовом плане, утратило культурный темперамент, необходимый для процветания.
Милитаризм и разложение свободы
Еще одним разрушительным фактором является возрождение милитаризма — не в форме героической обороны, а в виде постоянного состояния вмешательства. В период после 11 сентября западные державы, особенно США, ведут непрерывные войны с сомнительными стратегическими и моральными результатами. Последствия этого многообразны: раздутые военные бюджеты, расширение системы слежения, ущемление гражданских свобод и нормализация чрезвычайных полномочий.
Историк Пол Кеннеди предупреждал о «имперском перенапряжении» — тенденции великих держав к истощению своих ресурсов в результате чрезмерных военных обязательств. Лэндс также рассматривал такие модели как признаки нерационального распределения ресурсов и снижения внутренней дисциплины.
Ротбард осуждал войну как «здоровье государства», заимствуя фразу Рэндольфа Борна. Война, по его мнению, централизует власть, оправдывает тиранию и перенаправляет производство с мирных предприятий на разрушение. Культура, посвященная долгосрочному процветанию, не может позволить себе постоянную военную экономику.
Миф об исключительности
В основе большей части этого институционального упадка лежит самодовольное убеждение в «исключительности» — идея, что некоторые страны, особенно Соединенные Штаты, не подвержены законам истории. Это заблуждение позволяет отступить от принципов финансовой осторожности, игнорировать конституционные ограничения и полагать, что упадок — это то, что происходит где-то там, но не здесь.
Но концепция Лэндса не предусматривает таких исключений. Процветание не является правом по рождению, его нужно заработать, взрастить и защитить. Его предпосылки — честность, бережливость, конкуренция, безопасность собственности и общество, основанное на заслугах — не являются самоподдерживающимися. Их нужно учить, защищать, а иногда и восстанавливать с большими затратами.
Ротбард дал суровый диагноз: «Нет большего заблуждения, чем идея о том, что политическая система или культура слишком велики, чтобы потерпеть крах. Левиафаны падают так же, как республики, когда разрушаются моральные устои» (Ротбард, За новую свободу, 211).
Институциональный упадок в контексте
Все эти явления — безответственность в денежно-кредитной политике, культурная фрагментация, политизация образования, постоянные войны и непосильный долг — можно рассматривать как симптомы институционального и культурного дрейфа. Они противоположны восьми добродетелям Лэндса. Если раньше западные общества ценили самоконтроль, компетентность и долгосрочное планирование, то теперь они превозносят эмоции, обиды и импровизацию.
Лэндс предложил моральный взгляд на ситуацию. Он не предсказывал упадок, но предупреждал, что без бдительности упадок неизбежен. Потеря дисциплины, честности и сплоченности — это не просто политическая проблема, это проблема цивилизации.
Эпилог
Нации не рушатся в одночасье или по случайности. Их падение редко бывает результатом одной войны, плохого правителя или несчастного случая. Чаще всего это медленное накопление сделанных выборов: утраченных добродетелей, размытого характера и игнорируемых основ.
Лэндс предупредил, что успех зарабатывается, а не наследуется; строится, а не принимается на веру. Цивилизации возникают благодаря силе дисциплины, честности, заслугам, знаниям и дару предвидения. Они падают, когда эти качества высмеиваются, отвергаются или забываются. В этом нет ничего загадочного. Это закон истории.
10 января 1917 года Теодор Рузвельт направил С. Стэнвуду Менкену письмо, в котором содержался следующий пророческий абзац:
«Американизм означает такие добродетели, как мужество, честь, справедливость, правдивость, искренность и отвага — добродетели, которые создали Америку. То, что разрушит Америку, — это процветание любой ценой, мир любой ценой, безопасность превыше всего вместо долга, любовь к беззаботной жизни и теория быстрого обогащения. [4]»
Теодор Рузвельт
В отличие от материального разрушения, которое часто можно восстановить, моральный и институциональный упадок протекает более незаметно. Он питается комфортом, усиливает слабость и сопротивляется исправлению. Как только общество теряет способность к самоограничению, как только оно выбирает удовольствие вместо принципов, нарратив вместо правды, а привилегии вместо усилий, оно вступает в цикл, из которого история предлагает лишь несколько безболезненных выходов.
В этом смысле упадок не является ошибкой политики. Это не сбой. Это естественное следствие предыдущих поблажек — заключительная стадия длинной цепочки моральных уступок и культурных отказов. Так же, как финансовое банкротство начинается постепенно и заканчивается внезапно, так и цивилизационный коллапс.
И снова Ротбард уловил суть дела: «Великий кризис нашего века — это не кризис знаний, а кризис мужества. Не в том, что делать, а в том, будем ли мы это делать». В этом и заключается узкий путь к обновлению. Не реформы, не технократия и не умное управление способны обратить вспять упадок. Это возможно только благодаря возрождению добродетелей, которые когда-то считались устаревшими: бережливость, правдивость, долг, честь.
Но обновление, если оно наступит, требует своей цены. Оно требует жертв, ясности и отказа от утешительных иллюзий. Большинство обществ, привыкнув к своему упадку, не могут и не хотят платить такую цену.
История не оплакивает их уход. Она просто движется дальше.
Таким образом, для тех из нас, кто заботится не только о капитале, но и о цивилизации — будь то инвесторы, граждане, родители или наследники — наиболее важными показателями могут быть не рост ВВП или процентные ставки. Они могут лежать гораздо глубже: в силе институтов, честности дискурса, сплоченности культуры и моральной стойкости народа.
Удача следует за характером. А когда характер угасает, гибель не наступает сама собой. Ее приглашают.
Ὁ νοῶν νοείτω.
("Да уразумеет разумеющий")
[1] Ибн Хальдун (1332–1406) был североафриканским арабским историком, философом и государственным деятелем, наиболее известным благодаря своему труду «Мукаддима», новаторской работе по историческому анализу, написанной в 1377 году. В ней он представил циклическую теорию взлета и падения цивилизаций, основанную на концепции асабии (социальной сплоченности), и подчеркнул роль экономических, культурных и институциональных факторов в формировании истории. Считающийся предшественником современной социологии, Ибн Хальдун остается актуальным благодаря своим глубоким пониманиям власти, упадка и динамики общества.
[2] Арнольд Дж. Тойнби (1889–1975) был британским историком и ученым-международником, наиболее известным своим 12-томным трудом "A Study of History" («Исследование истории») (1934–1961). В ней он исследует взлеты и падения цивилизаций с помощью сравнительного анализа, утверждая, что общества процветают, когда творчески реагируют на вызовы, и приходят в упадок, когда поддаются внутреннему разложению или не способны адаптироваться. Широкий взгляд на мир и акцент на моральной и духовной жизнеспособности сделали Тойнби одним из самых влиятельных историков XX века.
[3] Дэвид С. Лэндс (1924–2013) был американским экономическим историком и профессором Гарвардского университета, известным своими работами по промышленному развитию и экономической истории народов. Его наиболее влиятельная книга "The Wealth and Poverty of Nations" («Богатство и бедность народов») (1998) исследует, почему одни страны достигают устойчивого процветания, а другие остаются бедными, и вызвала широкую дискуссию в различных дисциплинах. Именно эта книга послужила источником моего бесконечного интереса к этой теме.
[4] https://history.stackexchange.com/questions/14706/did-theodore-roosevelt-ever-say-the-things-that-will-destroy-america-quote?
Использованная литература
Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business, 2012.
Berman, Harold J. Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harvard University Press, 1983.
Braudel, Fernand. On History. Translated by Sarah Matthews, University of Chicago Press, 1980.
De Soto, Hernando. The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else. Basic Books, 2000.
Diamond, Jared. Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. W. W. Norton & Company, 1997.
Easterly, William. The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. MIT Press, 2001.
Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Edited by David Womersley, Penguin Classics, 1994.
Hayek, Friedrich A. The Road to Serfdom. University of Chicago Press, 2007.
Hoppe, Hans-Hermann. A Theory of Socialism and Capitalism: Economics, Politics, and Ethics. Mises Institute, 2010.
Kennedy, Paul. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Vintage, 1989.
Khaldun, Ibn. The Muqaddimah: An Introduction to History. Translated by Franz Rosenthal, edited by N. J. Dawood, Princeton University Press, 2015.
Landes, David S. The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor. W. W. Norton & Company, 1998.
Mises, Ludwig von. Human Action: A Treatise on Economics. Ludwig von Mises Institute, 1998.
North, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, 1990.
Röpke, Wilhelm. A Humane Economy: The Social Framework of the Free Market. Liberty Fund, 1998.
Rothbard, Murray N. Power and Market: Government and the Economy. Mises Institute, 2006.
—. What Has Government Done to Our Money?. Mises Institute, 1990.
—. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. Mises Institute, 2006.
Tocqueville, Alexis de. Democracy in America. Translated by Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop, University of Chicago Press, 2000.
Toynbee, Arnold J. A Study of History. Oxford University Press, 1934–1961.
«Почему нации восходят и приходят в упадок: обзор»